Между порядком и хаосом
Пробраться из точки А в точку Б в квартире-студии коллекционера Михаила Алшибая можно лишь по узким тропинкам, проложенным среди картин, которые стоят, поддерживая одна другую, выглядывают уголками глаз из-за чьей-то картонной «спины», являют светящиеся лики или интригующие фрагменты. Здесь можно почувствовать дух непримиримого нонконформизма и удивительный комфорт, который встретишь только в кругу единомышленников. Для Михаила Алшибая, который собирает свою коллекцию уже более 30 лет, это не просто картины или артефакты — это захватывающие сюжеты и истории о тех, кто имел смелость не следовать общим канонам, порой забавные, но чаще драматические истории, которые толпятся в уже давно ставшем тесным для них помещении и ждут своей очереди быть рассказанным.
Интервью: Татьяна Панасюк
Фото: Елена Ростунова
 И./ Михаил Дурмишханович, расскажите, с чего начался ваш путь коллекционера?
И./ Михаил Дурмишханович, расскажите, с чего начался ваш путь коллекционера?
Я сам этого точно не знаю. Все время думаю над этим вопросом, но точного ответа нет. Я вырос в провинции, где не было никакого изобразительного искусства. Семья была очень приличная, родители были врачами. Мама любила классических художников-передвижников — и на этом все. В доме практически не было картин. Но все же какой-то интерес к искусству существовал уже с детских лет. Мой дедушка, отец моей мамы, тоже был врачом, и я в детстве рассматривал его старинные атласы кожных болезней и находил там некую эстетику. Может быть, это и было первым импульсом?
И./ Помните ли первые работы, которые захотелось приобрести? Как это произошло?
Я приехал в Москву учиться в медицинском институте, и передо мной открылся этот мир. Я не могу сказать, что был в него очень погружен. Выставок тогда было немного. Но я стал ходить в музеи, пристраивался к экскурсиям и слушал — и это меня захватывало. Несколько сильных впечатлений получил от знаменитых выставок «Москва — Париж» и «100 картин из музея Метрополитен» в Пушкинском музее. При этом где-то в конце 70-х — начале 80-х я был невероятно увлечен медициной и собирал медицинскую библиотеку, отдавая предпочтение старинным книжкам с картинками, хирургическим и анатомическим атласам.
И./ Но это тем не менее не переросло в собирательство книг?
Я не мог себе позволить собрать библиофильскую коллекцию, но у меня все-таки образовалась гигантская библиотека. И первым моим собранием стала коллекция художественных альбомов. Они стоили недешево, и их было трудно достать.
Позже, в 1982 году я совершенно случайно попал в качестве врача к знаменитому коллекционеру Якову Евсеевичу Рубинштейну, который был тяжело болен. В его небольшой квартире все стены были увешаны полотнами художников русского авангарда. Я был просто поражен. Я тогда не предполагал, что буду сам жить в такой же атмосфере через какое-то время. Я очень хорошо помню, что многие имена я узнавал. Я увидел Ивана Пуни, Антонину Софронову, Михаила Врубеля. В результате приобретения художественных альбомов у меня уже была какая-то подготовка. И вот тогда — я это очень хорошо помню — мне захотелось иметь настоящее художественное произведение у себя. Но прошло еще несколько лет. Я просто не мог себе представить в то советское время, когда у меня зарплата была 80–90 рублей, что можно приобрести произведение искусства. Но оказалось, что можно и вообще иногда даже довольно просто, если сконцентрироваться на современном искусстве, на художниках сегодняшнего дня. Это и стало для меня самым интересным.
К тому времени мне очень нравился как художник Казимир Малевич. Когда я еще жил в общежитии института, кто-то принес номер журнала «Америка» с репродукциями его работ, и меня поразило это искусство — супрематизм. Мне очень хотелось иметь Малевича, но в какой-то момент я понял, что это уже не только невозможно по экономическим причинам, но и не интересно мне — это уже установленные общепризнанные вещи, которым место в музее. Малевича у меня так и нет, хотя я хотел бы иметь рисуночек для некоторого контрапункта к тому, что я насобирал. И примерно в середине 80-х годов я впервые приобрел картину современного художника: это была абстрактная работа Беллы Левиковой — экспрессивная динамичная композиция. Затем был следующий эпизод: мне очень в то время нравился художник Анатолий Зверев, а один мой коллега был с ним хорошо знаком. Он собрал большую коллекцию его работ и говорил, что это очень просто: «Толя нарисует за бутылку». Мне тоже хотелось что-то иметь. Но Анатолий Тимофеевич внезапно умер в декабре 1986 года. Для меня это послужило каким-то импульсом к тому, чтобы начать собирать. Потому что очень легко с ним было познакомиться, что-то купить за небольшие деньги, пока он был жив, но как только он умер, все стало сложно. В результате я собрал достаточно много его работ, но это был непростой путь. Еще позже мой друг и коллега, профессор-кардиолог Давид Иоселиани познакомил меня с Владимиром Николаевичем Немухиным, великим художником, который недавно от нас ушел. Мы с ним дружили все это время после знакомства. Ему очень понравилось, что молодой человек, а мне тогда было 27 лет, заинтересовался современным искусством. И он сделал мне такую «наркотическую инъекцию» — подарил несколько акварелей Зверева на выбор и свою работу, тоже на выбор. И так постепенно я стал втягиваться в это дело, изучать эту эпоху так называемого нонконформистского подпольного искусства.
 И./ Почему именно нонконформизм? Время такое было?
И./ Почему именно нонконформизм? Время такое было?
Мне всегда нравилось некое уклонение от общих канонов. Я потом пересмотрел многие свои концепции, но такое прямое искусство, реалистическое, которое часто бывает псевдоискусством, мне не было интересно. Мне был интересен жест, движение, противопоставление существующим нормам. Короче говоря, я стал собирать то, что иногда называют еще «другим» искусством. Оно было другим в нашей стране, на Западе же это был уже самый что ни на есть магистральный путь.
И./ А художники сегодняшнего дня, кого вы могли бы выделить?
Боюсь даже говорить, потому что обязательно кого-нибудь забуду. Я дружу со многими современными молодыми художниками. Среди них есть очень достойные, и немало. Это ребята, которые наследуют от нон-конформистов их принципы. Оля Чернышева, Тата Хэнгстлер, Дима Гутов, Андрей Филиппов, Костя Звездочетов, Сергей Шутов, Коля Наседкин и еще много имен. Есть художники более взрослого поколения, например, Ира Мещерякова — в 70–80–90-е годы она создала великолепные работы. Или Наталья Нестерова — замечательный художник из того же поколения семидесятников.
И./ А в наши дни у вас не складывается впечатления, что художников стало много?
Ощущения размытости не возникает — что теперь сложнее выискивать жемчужины? Да, искусство стало делать легко. Раньше, например, 200 лет назад, для того чтобы быть художником, нужно было долго учиться, осваивать технологии и так далее. Сегодня любая девушка может взять айфон, сделать две тысячи фотографий, и одна из них будет очень даже ничего, достойная — произведение искусства. Все эти процессы, связанные с техникой репродуцирования, были предсказаны еще в начале ХХ века мыслителями. Олдос Хаксли писал в начале 30-х годов, что в связи с повышением общей грамотности населения и увеличением количества изданий число авторов возросло и будет возрастать в геометрической прогрессии, а поскольку талант — это редкость, то мы можем в какой-то момент захлебнуться в потоке халтуры.

Что-то подобное мы сегодня имеем. Очень сложно выбрать. Потому что действительно стало легко производить. В социальных сетях каждый выступает в качестве автора, иногда весьма остроумно. Но имеет ли это отношение к подлинному искусству — это вопрос. И существует ли вообще подлинное искусство?
И./ Если говорить о профессии хирурга, помимо того, что вы изначально видели красоту и живопись в человеческом теле…
Ну, это еще Леонардо и Микеланджело видели.
И./ Есть ли еще какие-то грани соприкосновения вашего хобби и вашей профессии хирурга?
Конечно, есть. А может быть, это спекуляция моя. Но я думаю, что, во-первых, хирургия — это тоже искусство, между прочим. Опять же вопрос в том, что мы понимаем под словом «искусство». Владимир Иванович Бураковский, знаменитый хирург, директор и основатель института, в котором я имею честь служить уже почти 40 лет, в одной из своих книг написал: «Говорят, что хирургия — это искусство, наука и ремесло. Но хирургия — это еще и философия». И конечно, медицина и хирургия имеют прямое отношение к искусству. Вообще это длинная тема. Искусство и хирургия переплетены с очень давних времен. Достаточно сказать, что анатомический атлас Андрея Везалия XVI — начала XVII века иллюстрировал картинками ученик Веронезе. И там, кажется, даже есть пара рисунков самого Веронезе. Леонардо да Винчи делал массу анатомических зарисовок, и, в частности, он дал первое очень близкое к реальности изображение коронарных артерий сердца, на которых я ежедневно оперирую. Можно еще глубже погрузиться в историю. Аполлон Мусагет, предводитель муз и бог искусств, между прочим, в то же время является богом врачевателей. И вообще в античности и в более поздние времена, в эллинистический период медицина и искусство были очень тесно связаны. И я могу абсолютно точно сказать, что когда я поступил на 1-й курс 2-го Московского мединститута и началась анатомия, я моментально влюбился в этот предмет. И я думал, что влюбился в медицину и хирургию, потому что анатомия и хирургия переплетены, а сегодня я могу сказать, что влюбился в искусство, потому что анатомия — это божественное творение, пропорции, и это все очень близко к искусству.
И./ Сколько лет вы уже коллекционируете?
Я начал примерно в 86-м году. Значит, уже более тридцати лет. Вообще коллекционирование очень украшает жизнь. Во-первых — это общение. Самое ценное и самое прекрасное, что у меня было, — это общение с художниками. Потому что это свободные люди, в разговоре с ними всегда рождаются какие-то мысли. А потом, когда накапливаются артефакты, это изумительно. Они вызывают у вас воспоминания, реминисценции. Рано или поздно, если вы собираете коллекцию, пусть даже небольшую, две-три вещи, они окажутся значимыми в каком-то контексте — не в смысле инвестиционной цены. Когда Вы покупаете картинку, особенно современного художника, вы отдаете какие-то небольшие деньги, по сути, за пустоту. Я это очень остро испытал в начале своего коллекционирования. И все же это настоящее. Ведь главное в нашей жизни — это то, что мы узнаем или познаем. И когда вы приобретаете картинку, это заставляет вас понять, искать, попытаться проникнуть в то, что с этим связано, и так далее.
Я всегда говорю, что собираю не произведения, не артефакты, а истории, которые существуют вокруг каждой работы или группы работ — это главное. Это может быть история самого художника, автора, и она всегда драматическая, или история работы, ее приобретения, поиска.
 И./ Станут когда-нибудь эти истории книгой и сможем ли мы ее увидеть в каком-то обозримом будущем?
И./ Станут когда-нибудь эти истории книгой и сможем ли мы ее увидеть в каком-то обозримом будущем?
Я должен написать эту книгу, это очень важно. Но чтобы сделать настоящее серьезное дело, нужно закрыться в башне из слоновой кости и заняться только этим. А я не могу бросить хирургию. Однако я могу десятки таких историй рассказать.
И./ Расскажите что-нибудь, пожалуйста.
Есть забавные. Например, у меня висит «Рыбка» Владимира Яковлева, которая мне очень нравится. Подарил мне ее писатель Эдуард Лимонов. А история была такая — он как-то пришел ко мне и говорит: «Ты знаешь, у меня есть “Цветочек” Яковлева, он мне абсолютно не нужен, я его недавно вынул из рамы и бросил куда-то. Если хочешь, я его тебе подарю». Я ответил: «Ну, конечно, хочу». От таких подарков не отказываются. Через какое-то время он приносит мне работу и говорит: «Прости, пожалуйста, я думал, что это цветочек, а это оказалась рыбка». Человек 30 лет смотрел на работу, и ему казалось, что это цветочек! Но ведь Яковлев действительно очень много нарисовал цветов, да и рыбка эта замечательная, цветная. Или, например, у меня висит работа Василия Яковлевича Ситникова. Его собственных работ довольно мало. В каталоге выставки «Другое искусство», проходившей в Третьяковской галерее в 1991 году, было написано «Работ Ситникова в СССР нет». А у меня штук 30 его работ. Но еще, наверное, штук 50 работ его учеников. И вот такие обнаженные торсы — это была его система. У него была целая школа, он ее называл юмористически «Академия» и обучал там молодежь. На работах учеников его рукой всегда написано: урок такому-то, например, Юлию Ведерникову, и точная дата. А неподписанные работы — это обычно были его собственные. И эти работы, с одной стороны, — редкость. С другой — они просто прекрасны. А третий аспект — они не имеют никакой коммерческой ценности. То есть их можно при желании продать за какие-то жалкие деньги, но я хочу подчеркнуть, что я к инвестициям вообще не имею никакого отношения. Я никогда не собирал вещи из инвестиционных побуждений или целей. И хотя я не совсем девственник — я все-таки продал в своей жизни несколько работ, обстоятельства были такие, но если уж я с чем-то расставался, то только за очень большие по тем временам деньги, и я до сих пор жалею. Просто было безвыходное положение.
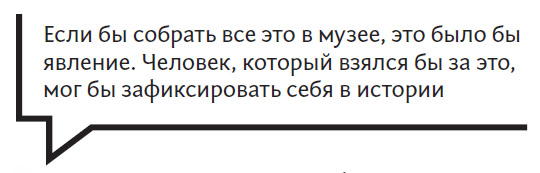
У меня есть вещи с удивительными историями. Например, работа художника Юрия Титова, который уже сорок лет живет в Париже, никому не нужен и всеми забыт. Эту картину мне подарил Володя Немухин, причем со словами «Я не знаю, кто это, возьми, может быть, разберешься». Я посмотрел — она подписана, хотя разобрать было нелегко: «Владимир Николаевич, это же Юра Титов», и он ответил: «Послушай, ты гений. Он точно ходил в тот дом. Как ты догадался?» С моей точки зрения, это вообще шедевр: неожиданные атрибуции, всплывание вещей, много чего. При этом абсолютно точно известно, что это не имеет никакой рыночной стоимости.
И./ Рыночная стоимость — это же вообще искусственно созданная вещь?
Конечно. Продают работу Ван Гога за 100 миллионов франков, а ее номинальная стоимость 100 франков. Определенно, есть спекулятивная составляющая.
И./ То есть имя Юрия Титова никогда не «выстрелит» на арт-рынке, думаете?
 Для меня это не имеет никакого значения. Но я бы хотел, чтобы оно осталось в истории этого невероятного периода. Я не встречал его работ ни в музеях, ни где бы то ни было еще. Он эмигрировал в 74-м году, ему сейчас очень много лет. У меня есть еще один его холст, уже парижский. История его жизни трагическая, и она — как камертон всей ситуации той эпохи, художественной в том числе. Он был немного православным и явно антикоммунистическим, славянофильским и никуда уезжать не собирался.
Для меня это не имеет никакого значения. Но я бы хотел, чтобы оно осталось в истории этого невероятного периода. Я не встречал его работ ни в музеях, ни где бы то ни было еще. Он эмигрировал в 74-м году, ему сейчас очень много лет. У меня есть еще один его холст, уже парижский. История его жизни трагическая, и она — как камертон всей ситуации той эпохи, художественной в том числе. Он был немного православным и явно антикоммунистическим, славянофильским и никуда уезжать не собирался.
Но у него была красавица-жена Лена Строева, и она его соблазнила уехать в Париж. Все, что я сейчас рассказываю, собрано по слухам. Когда они приехали в Париж, следом пришли отправленные им работы, и они оказались все испорченными: ящики с картинами были залиты серной кислотой — так советская власть мстила эмигрантам. Началась очень сложная жизнь в эмиграции, и Лена заболела тяжелой ностальгией. Говорят, что она пошла на сделку с советским посольством, и все закончилось тем, что она повесилась, а Юрий Титов после этого сошел с ума и просидел много лет в психиатрической больнице. И эта история как бы отражает жизнь того времени. В Москве же у них была квартира на Тверской, своего рода салон, где в 60-е годы собирались художники и другие деятели. И работа Юрия Титова, которая у меня висит, — это некий след, артефакт той эпохи. У меня вообще такое направление — акцент на полузабытые имена и трагические судьбы. А судьба подлинного художника — всегда трагедия. Даже если он при жизни получает славу и известность, все равно это трагическая ситуация.
И./ А интерес из-за рубежа к российским нонконформистам есть или им это вообще не понятно?
Это сложнейший вопрос. В последние 10 лет появился некий рынок и спрос на это искусство, но, конечно, его покупали только наши. На Западе это искусство почти не известно. У нонконформизма 60–70-х годов были свои коллекционеры, в основном дипломаты, которые собирали эти работы как этнографию, как некую экзотику. Недавно на русском языке вышла знаменитая книга, написанная западными искусствоведами, «Искусство с 1900 года», и там об этом периоде нет даже упоминания, даже такие имена, как Кабаков, не упоминаются. Конечно, этот период в искусстве не сравним, например, с русским авангардом, который оказал кардинальное влияние на Запад, или с невероятно мощным древнерусским искусством. Однако, с другой стороны, самая лучшая коллекция нашего искусства того периода находится в США, в Нью-Джерси. Ее собрал великий человек Нортон Додж, к сожалению, не так давно умерший. Но все же я думаю, что эта нонконформистская история имеет значение в мировом контексте и когда-нибудь займет свое место.
И./ Для России это вообще очень важное явление — нонконформизм, и в искусстве, и в общественной жизни, если принять во внимание нашу историю и, скажем так, склонность маршировать рядами.
Да, это было протестное искусство. Подлинное искусство — оно всегда в каком-то смысле протестное. Даже если художник выполняет заказы царствующих династий. Например, Веласкес, тоже протестный художник, хотя и придворный, пишет королевскую чету смутным образом в зеркале, а сам стоит при этом в полный рост перед нами, я «Менины» имею в виду. И царствующие особы молчали. Понимали, что художник имеет право и, может быть, он — главная фигура в истории, а не они. Власть, богатство — это все бренно, а вот художник... Веласкеса мы знаем, а они ушли в небытие.
И./ И все же можно ли рассматривать коллекционирование как инвестицию?
Я никогда не занимался инвестициями сознательно. Конечно, в каком-то смысле это получилось и стало все-таки инвестицией. Но если человек сознательно стремится к инвестированию, если человек в искусство хочет сознательно вложиться, это обречено. Только любовь. Если ты влюблен в это дело, проник в его глубину и получил какие-то знания и понимание вещей, это может стать инвестицией. Потому что главная инвестиция — интеллектуальная. Если ты внедряешься в любую мелочь и начинаешь находить в ней смыслы, это может стать инвестицией. Но если ты действительно влюблен в это, действительно погружен, то ты не можешь реализовать эту инвестицию, ты не можешь расстаться с этими вещами в обмен на деньги. Я видел коллекционеров, которые, собрав грандиозную коллекцию, продавали ее за безумные деньги и теряли смысл в жизни.
И./ Если задуматься о судьбе коллекции — это ответственность большая, ощущаете ее?
Ощущаю. Мне уже не так мало лет. Конечно, надо что-то придумывать. Нужно все отдать, но кому, куда?
И./ Просится идея создать музей нонконформистов.
В Питере он есть, а в Москве нет. Да, по большому счету нет. И в Питере — музей питерских нонконформистов. Я ими увлекался, и у меня есть их работы, несколько рисунков Александра Арефьева, например. Кстати говоря, он был фактически первым таким художником. Он начинал в конце 40-х годов. Но это совершенно другой нонконформизм, нежели московский. Если говорить о музее, то создать его — это серьезное дело, но не самое сложное, а вот содержать его… Конечно, если все это собрать в музее, это было бы явление. Я был бы счастлив. И человек, который взялся бы за это, мог бы зафиксировать себя в истории.
И./ Сколько работ в вашей коллекции? Вы ведете реестр?
К сожалению, не веду. Говорю везде, что 6 тысяч, но боюсь, что больше с учетом всего — графики, фотографий. Здесь, в студии, представлена только маленькая часть. И хотя атмосфера здесь немного безалаберная, но это моя жизнь. Как кардиохирург я работаю в ситуации стерильного порядка операционных. Как говорил Вальтер Беньямин, жизнь коллекционера простирается между полюсами порядка и хаоса. Хаос Вы здесь видите.
И./ Часть работ где-то выставляется?
Выставки непрерывно происходят, за последний год их было более десятка. Я вообще счастливый человек — у меня есть постоянная экспозиция части коллекции в музейном центре РГГУ на улице Чаянова. В течение 15 лет там экспонировалась коллекция Леонида Талочкина, который собирал примерно то же, что и я, но он был на 20 лет старше и начал собирать лет на 20 раньше.
Его коллекция переехала в Третьяковскую галерею, и РГГУ предложил мне занять освободившееся пространство. Я в какой-то момент пришел к тому, что выставлять работы необходимо. Это важно для художника. Лет двадцать назад я отказался дать на выставку работу одного крупного художника и рассказал об этом коллекционеру Игорю Сановичу, с которым дружил. И услышал в ответ: «Ты что, сумасшедший? Как ты посмел? Ты должен всегда давать работы на выставки. Это единственное, что ты можешь сделать для художника. Иначе зачем ты собираешь работы?» И этот разговор осуществил во мне переворот. В 80-е годы я собирал коллекцию для себя. Мои приятели ко мне приходили, видели все это на стенах и говорили: «Ты сумасшедший, к искусству это не имеет никакого отношения». Но потом это все разрослось и превратилось в целый мир, даже вселенную. В части выставочных проектов я сейчас взял таймаут на некоторое время, но у меня есть идея большой выставки, которая будет посвящена даже не искусству, а коллекционированию, потому что это очень интересная тема. Что толкает человека на этот путь? Что такое вообще эта коллекция? Мне хочется в очень необычном ракурсе это показать.
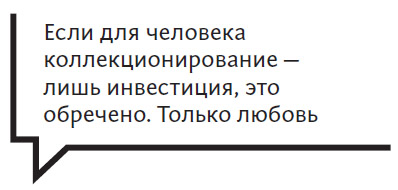
И./ В чем же он заключается, по вашему мнению, путь коллекционера?
Есть разные типы коллекционеров. Есть инвестиционные коллекционеры, которые сознательно собирают работы, понимая, что со временем это может вырасти в цене. Есть коллекционеры, которые занимаются этим из престижа, поскольку приобщаются к определенному кругу, входят в какие-то новые сферы — это тоже немаловажный момент. Об этом Бодрийяр писал, но это немного такая, говоря его словами, регрессивная тенденция. Человек замыкается в круге своих интересов. Есть также концепция, что коллекционеры несут просветительскую и познавательную функцию, но мне она тоже не близка, в этом присутствует некоторая искусственность. Я думаю, что подлинное коллекционирование — это плохо осознаваемая самим коллекционером страсть. Как любовь.
-
Личный капитал
Рэнкинг ведущих бизнес-школ
-
Отрасли
Летающие автомобили как реальность
«Информация для получателей финансовых услуг».
Согласие на обработку персональных данных



